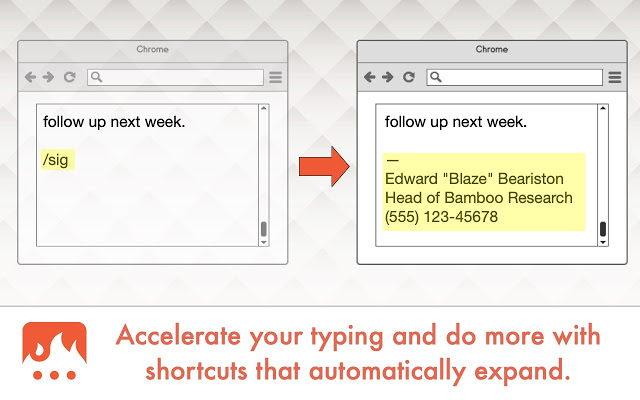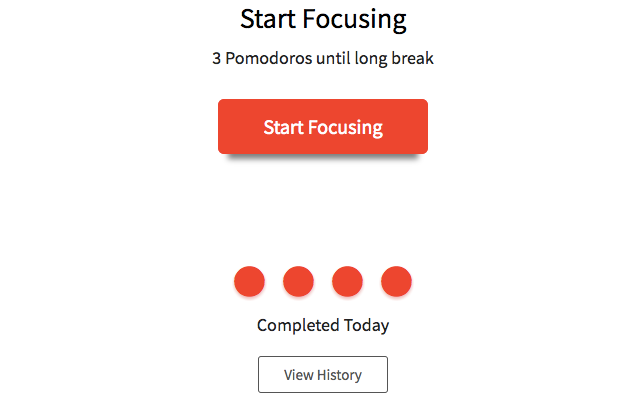Будучи институциональным экономистом, Александр Аузан знает нетривиальные ответы на вечные вопросы российского общества. Как ускорить модернизацию и демократизацию? За что русские не любят бизнесменов? Как бороться с «ресурсным проклятием»? Какие скрепы на самом деле объединяют россиян? Его задача — показать студентам и политикам барьеры и риски, которые ждут за каждым управленческим решением государства, опираясь только на исследовательские данные. Сейчас в России очередной застой. О том, почему страна в нем оказалась и как может из него выйти, Аузан рассуждает в этом интервью.
— Александр Александрович, я вас сначала хочу поблагодарить за альма-матер. Вообще, когда вспоминаешь место, где училась, хочется им гордиться, а не стыдиться. И при вас, конечно, факультет вырос и налился кровью. Но вот скажите мне: когда я только начинала учиться, у экономфака МГУ появился сильный конкурент — Вышка. Причем его создал ваш же однокурсник, Ярослав Кузьминов.
— Он мой друг. Мы в одной группе учились. Он познакомился с Эльвирой Набиуллиной у меня на семинаре. Я вел семинар для аспирантов. Вячеслав пришел ко мне, а ушел с Элей Набиуллиной.
— Не зря провел время.
— Да. Я у них был свидетелем на свадьбе. В общем, у нас очень тесные, действительно, отношения.
— Вы не ревновали, что в какой-то момент друг и одногруппник начал уводить у вас славу главного экономического вуза?
— Во-первых, это был нормальный процесс, который многократно в истории случался. Как Кембридж из Оксфорда возник? Часть преподавателей и студентов, недовольных тем, что происходит в Оксфорде, перешли речку и сделали другой университет. Поэтому, когда, не помню, 20, что ли, лет было Вышке, я подарил Кузьминову картину с надписью «Русскому Кембриджу от русского Оксфорда», где Ломоносов держит тяжелый такой фолиант в руках и смотрит на ворону — символ Вышки. Но я хочу сказать, что когда меня самого позвали в Вышку, а ведь большинство моих друзей и однокурсников ушли туда, надо заметить, я сказал: «Понимаете, ребят, преподаватель должен быть там, где сильнее студенты. С вами я могу пообщаться и в других местах: на конференциях, в ресторанах, дома. А студенты, простите, сильнее в Московском университете. И я остаюсь со студентами».
— Если брать мировой рейтинг, много ли людей, которые окончили экономфак, обеспечивают эту эмиграцию талантов?
— Много, конечно, да.
— А можете примеры привести?
— Да. Из старшего поколения — это, наверное, профессор Майкл Алексеев в университете Индиана. Из поколения среднего — это Олег Ицхоки, Принстонский университет. Из совсем молодого поколения — это Дмитрий Мухин. Но самое главное — другое. Они все сохраняют связь с факультетом и в том или ином формате работают для наших студентов. Поэтому если они приезжают прочесть лекции и я понимаю, что кого-то они увезут с собой в итоге, то меня вполне устраивает вариант, когда 10 человек будут подготовлены классным мировым специалистом и одного мы отдадим за это вложение в развитие родины. Кроме того, слава богу, участвуют и сильные люди, которые остаются в России, которые дорастают до министров, миллиардеров и т. д.
— Отъезд умов — это утечка мозгов?
— И да, и нет. Это зависит от того, остаются ли умы включенными в эту жизнь. Потому что вот пример Олега Ицхоки. Экономист чрезвычайно высокого ранга и продолжающий расти. Он входит в десятку молодых экономистов, которые признаны самыми перспективными в мире. Но он регулярно работает с нашим проектом «Первая группа». Он научный руководитель группы. Понятно, что их ночи, а наши дни он тратит на то, чтобы работать в России, а не в США. Приезжает достаточно часто. Поэтому потеряли ли мы Олега Ицхоки? Нет. Уехал ли Олег Ицхоки? Да. Конечно, складывается по-разному. Иногда это трагические потери.
— Трагические?
— Конечно. Видите ли, когда, скажем, мои ученики собирались уезжать (особенно часто это было до 2014 года, после введения санкций число грантов упало), я им говорил: «Ребята, не ходите больше на мой семинар, идите к математикам. Пусть вам еще подтянут нашу блистательную математику, это вам там понадобится». Они говорят: «А почему не ходить?» Я говорю: «Вам никогда не дадут решать там такие задачи, которые решаем мы здесь». Потому что иммигранту не дают решать задачи, связанные с действительно тяжелыми развилками в институциональном развитии страны. От вас в лучшем случае будут принимать некоторые рекомендации, включая в реальные рабочие группы. Это судьба иммигранта.
— То есть даже в науке, вы сейчас хотите сказать, влиять на establishment и развитие страны невозможно, будучи иммигрантом?
— Это влияние намного слабее, я бы сказал. Даже в Америке, которая в принципе понимает, что она выросла из иммиграции. В Европе это совсем катастрофическое, конечно, дело. Это закрытый клуб.
— Вы несколько лет назад в своей, наверное, самой популярной книге «Экономика всего» написали, что Россия стоит на пороге модернизации. Мне кажется, что это, во-первых, очень яркая метафора. А во-вторых, мне кажется, что эта метафора не устарела.
— Не устарела.
— Более того, она не устаревала на протяжении последних лет 300.
— Именно. Потому что Россия вошла в этот процесс при Петре I уже наверняка. Хотя я думаю, что уже при царе Алексее Михайловиче и царевне Софье начались такие мягкие входы модернизации. А при Петре это стало ярко, публично, резко и, я бы сказал, кроваво. Мы 300 лет в процессе модернизации. Мы находимся в положении прерванной модернизации, которая то снова пытается реализоваться, то закрывается. И я вижу вот в чем великую проблему: люди — разные по ценностям. Нельзя сказать, что модернизация, модернизированные — это намного лучше, чем традиционные. Это сложный вопрос. Кому что нравится. Кому-то нравится гармония душевная, а кому-то нравится материальный успех. Но стране, которая зависла между двумя состояниями и, я бы сказал, страдает этим уже 300 лет, разумеется, надо найти путь к модернизации. Потому что возврата к традиционному обществу здесь нет.
— А все-таки почему, собственно, так нужна модернизация?
— Да можно и без модернизации. Куча стран счастливы при том, что у них модернизации нет. Какие-то Бутан, Сикким и т. д. Более того, наши же соотечественники лезут в горы для того, чтобы ощутить то счастье, которое испытывают эти не модернизированные. Потому что модернизация в каком-то смысле, действительно, отбирает счастье. Вы начинаете жить в глобальном мире и обнаруживаете, что там живут лучше, тут движутся быстрее, эти скоро меня обыграют на таком-то рынке. Чрезвычайно беспокойный мир образуется. Поэтому я бы не обсуждал, что лучше. Это, знаете, кому что нравится. Но я полагаю, что в России этот процесс неостановим. Во-первых, потому что здесь исчезло традиционное общество, значит, выбора такого нет. А признаки модернизированного общества как раз очень даже есть. Потому что модернизация — это ведь не только изменение институтов. Это в значительной степени изменение ценностей и поведенческих, особенно поведенческих установок людей.
Что у нас движет модернизацию? У нас произошла, прежде всего, потребительская модернизация. Я считаю, что 90-е годы были ровно такой, если хотите, потребительской революцией. К которой я был довольно близок, потому что тогда занимался защитой прав потребителей. И я бы сказал, неожиданно для себя оказался в центре российского развития. Потому что это и было превращение зажатого дефицитом в Советском Союзе человека в субъект выбора и сложного поведения на рынках. И эта потребительская модернизация в итоге победила. Сначала в мегаполисах, потом перешла в областные центры. И Наталья Зубаревич достаточно подробно это анализировала, когда говорила, что у нас супермаркеты и мобильная телефония были такими пионерами этой потребительской модернизации. Туда, куда они приходили, мир уже не оставался прежним, он очень сильно менялся.
Кстати, поменялось ведь даже поведение на дорогах. Это уже в нулевые годы. В начале 90-х представить, что водитель на пешеходном переходе пропускает кого-то, было довольно трудно. Они друг друга не пропускали, как мы помним. Поэтому это серьезное довольно изменение. Дальше оно естественным образом повело, знаете, к чему? К изменениям городов. К той революции общественного пространства, которая, например, в Москве произошла в 2011–2012 годах. Все эти парки, пешеходные зоны и т. д. И вслед за Москвой же начали меняться и другие мегаполисы. Разумеется, эта городская революция принесла свои последствия для власти. Потому что немедленно рассерженные горожане сказали: «Так, нам не нравится, что происходит в государстве». Тогда, я бы сказал, они проиграли, но получили в виде отступного это пространство своих городов, реконструкцию пространств. Но модернизация идет.
— То есть вы считаете, что власть отдала общественные пространства людям?
— Я думаю, что власть поступила достаточно разумно, когда, понимая, что это естественная потребность растущих мегаполисов, сказала: «Заберите себе автономию и не лезьте, пожалуйста, в мои общероссийские дела».
— Общероссийские дела — это политика?
— Да, конечно. Но, понимаете, то, что эти процессы как бы сами собой текут, на самом деле не должно привести к выводу «наберитесь терпения, и дальше все само собой придет». Нет. Я вижу очень серьезные препятствия на этом пути. Видите ли, мы понимаем, что модернизация приводит в какой-то момент к спросу на свободу, демократию, конкуренцию. Но вот вопрос: можем ли мы сказать, что вся страна этого жаждет, а некая власть этого не хочет. Нет. Если говорить об измеримых вещах. Всемирное исследование ценностей по России регулярно дает результат: спрос на демократию в России ниже не только, чем в Швеции, Германии и США, это понятно, но он ниже, чем в Японии, Южной Корее и Китайской Народной Республике. Тоталитарный Китай с агентством «Синьхуа», газетой «Жэньминь жибао» — там спрос на демократию выше, чем в России.
— Это что за исследование?
— Всемирное исследование ценностей. World Values Survey. Это самый большой проект, который дает такой скрининг ценностных установок в мире. Международное исследование, которое уже 20 лет волнами смотрит на то, что происходит с ценностными установками.
Отношение к экономической конкуренции — опять та же картина. Немцы и японцы тоже не так любят конкуренцию, как, например, американцы. Но количество людей, которые считают конкуренцию злом в России, — рекордное по сравнению с сильными западными и восточными конкурентами. В чем дело-то? Во-первых, спрос на институты у нас вообще проявляет, это уже по нашим внутренним исследованиям Евробарометра, всего 30% населения. Остальные 70% решают проблему по-другому. Им не нужны правила, нормативные установления. У них либо связка друг с другом, либо связь, которая позволяет обойти закон. Неважно, речь идет о военном призыве, получении справки и т. д. Это 70%! А 30% предъявляет спрос на какие-либо институты. Необязательно институты, которые способствуют модернизации. Поэтому главный, мне кажется, вопрос, который нужно обсуждать, когда мы видим, что этот процесс идет, но во что-то утыкается: во что он уткнулся? Я бы начинал говорить о культуре и о спросе, который существует в стране на будущее. Хантингтон назвал Россию, Турцию и Мексику разорванными странами.
— Разорванными в смысле растянутыми?
— Нет. В смысле, что эти страны, защищая свой национальный суверенитет, вынуждены были в какой-то момент втащить в себя западные управленческие, военные и прочие технологии, в элиты для того, чтобы не потерять национального суверенитета. Мы знаем, что Россия это сделала раньше всех — еще при Петре I, Япония это сделала в эпоху Мэйдзи в конце XIX века, а Мексика это сделала в начале XX века. Все три страны решили эту проблему. Они не были поглощены западным миром. Но в итоге, по мнению Хантингтона, внутри каждой из этих стран возник разрыв. Как Турция мучается с тем, что она отчасти светская, индустриальная, сервисная, а отчасти исламская, фундаменталистская, аграрная — и все это в одной стране. У нас то же самое. Мы страна с двумя культурными ядрами. Причем я-то думаю, что у нас эта история длиннее, чем полагает Хантингтон. Потому что у нас Новгород и Москва были, двоецентрие было — задолго до Петра.
Почему 200 лет в России спорят друг с другом западники и славянофилы, либералы и социалисты, о чем они спорят-то? Западники говорят: «русский человек — личность прежде всего». Славянофилы говорят: «он — общинное существо, он — общинник». Социалисты говорят: «он — коллективист». Либералы говорят: «он — индивидуалист». Так вот по Всемирному исследованию ценностей оказалось, что все правы. Мы ровно на медиане между Западом и Востоком, между коллективистским Востоком и Западом индивидуалистическим. Чуть-чуть смещены в сторону Востока.
— То есть мы сочетаем и то и другое?
— Вот это самый главный вопрос. Потому что, во-первых, я напомню, что был один человек, который угадал. Это Редьярд Киплинг, автор нашей любимой детской книжки «Маугли», офицер британской спецслужбы, который сказал, что русские думают, что они самые восточные из западных наций, а между тем они самые западные из восточных. Вот он угадал абсолютно точно. Потому что мы на медиане, чуть-чуть смещенные в сторону коллективизма. Но главный-то вопрос, что мы открыли, был какой: каждый из нас в себе это сочетает или мы разные в стране? Так вот мы разные в стране. Потому что индивидуалисты. Эта характеристика возрастает от маленьких населенных пунктов к мегаполисам. Мегаполисы индивидуалистические. И от Урала на восток стремительно нарастает индивидуализм. Сахалин — столица индивидуалистов. Остров индивидуализма. Дальний Восток — весь. С Сибирью и Дальним Востоком нельзя обращаться так, как с Поволжьем или Южной Россией. Но дело не в том, что одни хорошие, другие плохие. Дело в том, что страна разделена по тому, кому что надо. Если И-России, такой индивидуалистической, нужны свобода, демократия, конкуренция, модернизация, то К-России, коллективистской, что нужно? Взаимопомощь, стабильность, социальная защита. И нельзя сказать, что это навеяно кем-то. Это правда. Для их условий существования это верно. Поэтому мы имеем два прямо противоположных запроса к власти. И власть, которая очень удобно себя в этом случае чувствует. Потому что она всегда может маневрировать между этими двумя противоположными импульсами. И если рассерженные горожане слишком многого захотели, сказать: «Извините, а остальная-то страна, которая, надо сказать, количеством больше…». У нас же в чем еще проблема? В том, что примерно 25%, которые сосредоточены в мегаполисах и этих регионах, являются, скорее, по культуре индивидуалистами, они создают экономический продукт заметно больший, чем остальные 75%. Поэтому правительству очень важны эти 25%, они в важных областях.
— Чтобы как-то расти и двигать вперед, нужно подкармливать эти 25%.
— Да. Политической власти, а правительство России, понятно, это власть экономическая. Политической власти очень важны те 75%, которые обеспечивают в случае острых ситуаций победу на выборах. Потому что мы вас слышим, вы получите помощь, стабильность и т. д. Мы в такой ситуации.
— И всегда можно предъявить это большинство и сказать: вот оно.
— Конечно. Причем это действительно большинство. Поэтому я бы сказал, что тут вряд ли правильным является расчет на то, что через 25 лет этих будет 45%, а этих 55%, а через 78 лет уже и этих будет 55%. Во-первых, не факт. Во-вторых, сколько мы потеряем за это время, сложно посчитать.
— Сколько мы потеряем людей из тех 25%, которые хотят перемен?
— Совершенно верно. Потому что они необязательно прирастают. Они могут и убывать от нас. Они как раз более подвижны. Обратите внимание на свойство русской диаспоры за рубежом. А свойство ее состоит в том, что ее как таковой не существует. Это типичная компания индивидуалистов. А, например, украинцы или поляки, наоборот, собираются в некоторые сообщества, делают лоббистские организации и влияют реально на жизнь Конгресса, Сената, парламента и т. д.
— Вы знаете, я просто много имела счастье наблюдать диаспору за рубежом. Русские говорят о себе: мы вообще не россияне и с Россией ассоциироваться не хотим, мы global Russians. Мы хотим так раствориться в мире и с родиной не ассоциироваться.
— Это, конечно, проявление, я бы сказал, радикального индивидуализма. Когда человек говорит: «Я вообще космополит, гражданин мира. Отойдите, все ваши правительства, где хочу, там живу». Это самый отборный индивидуалист. В этом смысле мы, конечно, теряем вычетом из этой модернистской части. Но я хочу сказать, от неразвитости, от недоразвитости мы теряем и в другой части страны. В коллективистской. Потому что это означает меньшую продолжительность жизни, хуже рабочие условия, меньше возможностей для карьеры и т. д. Это потери. Это потери и для той и для другой части страны. Поэтому вот эта задачка, которую, мне кажется, и надо решать.
— Смотрите, есть такая проблема: для того чтобы примирить все те группы, которые мы обсуждали, и К-Россию, и И-Россию, нужно, чтобы люди друг с другом как-то разговаривали. А люди друг с другом разговаривать не могут. Это видно по разным группам в соцсетях, на телевидении или в YouTube. Люди друг другу не доверяют, поэтому и не разговаривают. Как можно построить это доверие?
— Вы знаете, я всегда считал, что мы — страна умных, но недоговороспособных людей. У нас колоссальный в этом смысле интеллектуальный ресурс всегда для прогресса, скачка, свершения, но умники не могут договориться между собой. Я тоже пришел к тому, что доверие — это центральный вопрос. Честно сказать, мы сейчас много занимаемся программой, которая нашла бы эти ключи к развитию доверия в стране.
Есть, конечно, проблема доверия к институтам государства, например. И она решается очень неожиданным образом, чуть позже скажу об этом. А есть проблема горизонтального доверия — доверия одного человека другому. Причем они, к сожалению, тесно взаимосвязаны. Мы не можем договориться дружно всей страной и сказать: «Власть, имей в виду, мы тут уже договорились, сейчас будешь делать то, что мы сказали». Для того чтобы люди доверяли друг другу, важно, чтобы кто-то гарантировал, что обмана не будет, что обязательства будут выполнены, то есть чтобы работал институт. Так вот у власти появился конкурент. И это не оппозиция. Это цифровые экосистемы, шеринговые платформы.
Мы сначала с коллегами по экономическому факультету МГУ и Институту национальных проектов это обнаружили не в России, а в Европе. На платформах чрезвычайно высокий уровень доверия людей друг к другу, потому что они верят технологии на искусственном интеллекте с агрегатором, с рейтингом, с удалением с платформы того, кто не исполняет пользовательское соглашение и т. д. И выяснилось, что эти платформы вытесняют традиционные государственные институты, которые сопровождают сделку. Причем знаете какие? Суд и полицию. То есть они конкурируют не с экономическими ведомствами правительства, а с тем, что составляет основу государственности.
Государство — это же идеальный насильник. Это организация, которая лучше всех может заниматься насилием. И в результате может обеспечивать правосудие, безопасность и т. д. Потом этот же эффект мы обнаружили во время осеннего карантина у нас по результатам полевых исследований. Если говорить о том, что происходит с доверием, я совершенно определенно могу сказать, что доверие растет и будет расти очень быстро там, где будут распространяться цифровые платформы. Причем не хочу сказать, что это абсолютное благо, совсем нет. Потому что пользовательское соглашение, по-моему, изменить труднее, чем Конституцию Российской Федерации.
— Пользовательское соглашение просто невозможно изменить. Конституцию можно — хотя бы видимость создать, что она меняется.
— И, кроме того, успех платформы может приводить к тому, что это будет монополия. То есть вы получите монопольных правителей с искусственным интеллектом, на который у вас нет никакого воздействия, а снизу — миллионы цифровых граждан. Поэтому в принципе это опасный конкурент. Такие квазигосударственные начинают образовываться организации с миллионами цифровых граждан. России, на мой взгляд, нужно минимум три национальные экосистемы для того, чтобы был какой-то конкурентный баланс. Причем глобально конкурентоспособный. По нашим исследованиям от июля-августа, 49% россиян доверяет правительству Российской Федерации, а 59% доверяет частным сервисным платформам.
— То есть «Яндекс» победил правительство?
— Да. При том что 49% — это не низкий результат. Если сравнивать с другими государствами, только в Китае больше доверие к правительству. Но все равно обходят. Взаимосвязанный вопрос: доверие к институтам и доверие друг к другу через институты. Поэтому доверие будет расти. То, что внутри этого цифрового мира, оно уже двинулось и идет вперед, это хорошо. Но есть, конечно, другие каналы, про которые надо говорить. Это образование, это культурная политика, это то, чему мы учим в школах.
— Вы 10 лет назад написали, что не можете назвать такие ценности, которые превращают нас в какую-то единую общность. Сейчас вы можете их сформулировать?
— Я могу сказать, что говорят количественные исследования. Что характерно для нашего портрета? Высокая дистанция власти. Это означает, что мы власть воспринимаем скорее как символическую ценность, чем как делового партнера. Причем это относится в том числе к районам, где живут очень самостоятельные люди. Например, на севере или в Сибири. Они воспринимают власть как некоторый важный символ. Это вообще характерно для больших стран за одним исключением: в США этого нет. А в Индии, например, это есть. У нас есть высокое избегание неопределенности. К сожалению, оно в последнее время стало очень высоким.
— То есть мы не склонны к риску?
— Да. Я думаю, что это приобретенное качество после шоковых изменений в 80–90-х и прочих годах, когда человек приходит к выводу, что любое изменение скорее к худшему. Но это плохо для инновационных рынков, для венчурного капитала.
— Для предпринимательства.
— Да. Потому что фактически как рассуждают многие из нас? Не меняйте этого человека, следующий будет хуже. Не трогайте систему, она развалится. Не открывайте дверь, там страшно. Пусть лучше как есть.
— Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
— Есть характеристики, которые создают наши конкурентные преимущества. Например, то медианное положение, о котором я говорил, означает, что мы, в общем, можем делать и то, что умеют делать индивидуалистические нации, и то, что умеют делать коллективистские. Ведь, заметьте, Восток совершил взлет на коллективистской культуре. Колоссальный взлет. И продолжает Китай подниматься на коллективистской культуре. И Индия, возможно, двинется за ним, и Вьетнам, и Индонезия. А Европа и Америка — на индивидуалистской культуре. У нас два мотора. Они только в разные стороны толкают страну. Если мы научимся… Мы можем делать и то и другое. Это же на самом деле шанс, это возможность. Если мы находим и то и другое и можем использовать их попеременно.
Заметьте, что Россия и СССР за XX век сделали спутник, космический корабль, атомную турбину, гидротурбину. Не смогли сделать конкурентоспособный телевизор, холодильник, автомобиль, персональный компьютер. Это что такое? Это культурная особенность, которая, с одной стороны, позволяет нам лучше многих делать шедевры, единичные продукты, мелкие серии. Когда мы были лидерами в космосе? Когда это была штучная работа. Но наступает промышленный космос, и нам сложно. Меня поразила фраза американского менеджера, который сказал: «Если хотите сделать одну хорошую вещь, закажите русским, если 10, закажите кому угодно, только не русским». Это на самом деле подтверждается историей технологий. У нас есть один, может быть, два продукта массовых, которые успешны. Один известен всем — это автомат Калашникова. Но, я вам скажу, автомат Калашникова как раз показывает, в чем наше преимущество состоит. В том, что мы способны делать вещи, которые не требуют введения стандарта. Мы способны работать над опытными сериями. Автомат Калашникова чрезвычайно прост в качестве допусков. Если бы нужно было выполнить 142 пункта инструкции, то автомат бы не получился.
— А если выйти из материального мира и перейти в мир цифровой. Вы знаете, я просто заметила, что 3 мессенджера, на самом деле 4, Facebook Messenger тоже руководил человек, вышедший из Советского Союза. Но 3 мессенджера классных сделаны русскоговорящими людьми — Viber, WhatsApp и Telegram. Просто, может быть, нам не нужно заниматься физическим миром вещей, а нужно заниматься технологическими историями?
— В чем был закон до цифрового мира? Если ты сделал успешный стартап, ты его должен продать большой компании. Почему? Потому что нужна экономия на масштабе. Потому что нужны большие деньги, чтобы запустить массовую серию. Но в аддитивных технологиях этого не надо. Там единица производится в 3D printing примерно с теми же издержками, как массовая серия. Все, наступил век Левши. Там, где это есть, малый бизнес может, не продаваясь, делать продукт и выходить через платформу на глобальные рынки.
— На протяжении многих лет российской истории плохо, жестоко или гуманистично, в большей степени жестоко, нежели гуманистично, задачу модернизации решала власть. Беда в том, что когда власть не является в России модернистской, а сейчас, можно сказать, во всяком случае, с моей точки зрения, она такой не является, то возникает проблема. Потому что само общество в силу того, в частности, что вы описали, модернизироваться не может. И те 25%, грубо, не могут достучаться со своими потребностями до консервативной власти.
— Ох, Лиза, я боюсь, что проблема еще сложнее. Потому что если мы посмотрим на варианты модернистской власти в России, то, собственно, их два.
— Мечом или кирпичом.
— Примерно да. Мне кажется, в России в принципе существуют три варианта власти, которая реагирует на те или иные потребности огромной страны. Причем наиболее распространен третий вариант. Первый вариант — это силовая модернизация. Вот мы сейчас рывком, потому что внешнее окружение нас задавит, не считая жертв, мы будем двигаться. Что происходит с этим вариантом модернизации? Как делается скачок в стране, где не хватает условий для технологий? Есть два эластичных фактора: труд и земля. Если заставить людей работать силой и при этом, неважно, лес валить или руду добывать, то на этом и делается скачок. Где заканчивается скачок? Человеческий труд, конечно, эластичен, но человеческий потенциал хрупкий. Начинается истребление народа, начинается падение численности. Я напомню, что при Петре, по мнению историков, до 10% населения погибло. Не столько в войнах, сколько в его модернизационных проектах. В строительстве городов, крепостей и т. д. При Сталине перестали проводить перепись населения. Почему? По той же самой причине.
Есть другой вариант модернизации. Это эволюционный вариант. Это то, что пытались, наверное, делать царь Алексей Михайлович, царевна Софья и Василий Голицын. О чем мечтали Верховный тайный совет после Петра. Что пытался делать Никита Хрущев после Сталина и Горбачев после застоя. Но там другие риски. Потому что в эволюционном движении очень сложно идет маневрирование и нередко теряется часть государства или вообще все государство. Даже Александр II, ведь что ему припоминают, Аляску-то отдал. Отдал.
Но есть третий вариант: ничего не делать. Как фельдмаршал Миних сказал: «Россия — это страна, напрямую управляемая богом». По-другому невозможно объяснить существование этой страны. Да, важно, чтобы звезды благоволили. И звезды как-то благоволят, страна как-то плывет, почему-то не распадается.
— Но это не модернизация только.
— Не модернизация. Но этот застой есть самый распространенный вариант российского управления. Обратите внимание, что Екатерина II попробовала с модернизацией, потом началась пугачевщина, она сказала: «Ну его, живем как живем».
— Да, она хорошо начинала, но закончила как всегда.
— Александр I то же самое: «я как бабушка». Начал пореформенные комиссии делать и прочее. А потом после Сперанского, когда вроде и планы подготовили, война с Наполеоном, и все: не надо ничего, мы тут займемся духовными практиками. Поэтому на власть трудно полагаться. Если власть три четверти времени российской истории проводит в этом самом состоянии, я бы сказал, медитации и представлений о том, что кто-то страну выведет, потому что бог же любит Россию.
— Вы это мягко называете медитацией. Я называю это застоем. Смотрите, но тогда что делать, буду продолжать апеллировать к 25%, которые жаждут какой-то модернизации. Все же ждут разного на самом деле. Я это понимаю. Но, так или иначе, люди понимают, что в России есть человеческий капитал.
— Это точно.
— И этот человеческий капитал хочет изменений. Он хочет свобод и институтов развития. И каким-то образом ему нужно добиваться своих целей. Сейчас мы находимся в ситуации, когда человеческий капитал попробовал подобиваться своей цели, власть ему резко сказала, реакционно достаточно: нет. И опять очередная развилка.
— Я бы сказал так. Во-первых, этот высокоразвитый человеческий капитал должен понять, что он в стране не один. Потому что все опыты рассерженных горожан приводят к тому, что они знают, как устроить свою жизнь, но они не предлагают устроить жизнь в Тамбове, Орске, в деревне и т. д. Точнее говоря, они думают, что то, что им хорошо, то будет хорошо и для малых городов, для сельского населения.
— А почему нет?
— Потому что там хотят другого. Россия-И и Россия-К — это одна страна. Вы ее не поделите на две страны. И в одних и тех же городах живут люди, которые хотят разного. Поэтому мне кажется, что повестку надо формировать здесь по-другому. Кроме того, это еще, я бы сказал, начальная школа. Там впереди столько препятствий в достижении, о которых нужно думать сейчас. Я бы назвал кроме того культурного барьера, о котором я говорил, который на самом деле не просто культурный барьер, а разница спроса на институты в стране, говоря моим экономическим языком. Еще, слава богу, что на институты, а не на то, что мы тут через дядьку знакомого все решим. Так вот препятствия есть еще два. Знаете, когда само собой люди предполагают, что демократизация даст экономические эффекты, это совершенно не доказано. Абсолютно не доказано. Более того, есть прямо противоположные примеры.
— Вы Китай имеете в виду?
— Нет. Я имею в виду не то, что без демократии можно успешно развиваться. А то, что переход к демократии связан с экономическим успехом. Дело в том, что переход к демократии дает экономический успех, как показали исследования, и у нас в стране этим Полтерович и Попов занимались, и Табеллини писал об этих вещах, он дает успех только при наличии определенных условий. Если у вас есть хорошо работающие суды и качественная бюрократия. Если этих двух факторов у вас нет, то демократизация ведет к демократическому провалу.
— Судов-то как раз у нас нет.
— Да. Хотя я думаю, что у нас появляется качественная бюрократия. Что касается судов. Я думаю, что это решаемый вопрос. Потому что в 90-е годы я видел работающие суды. Хорошо работающие суды. В России. Не в Гвинее, не в Бельгии. Защита прав потребителей показала, что миллионы людей могут предъявлять иски банкам, прачечным, государству и т. д. И выиграть в 90% случаев. В массе судов. Даже 98-й год дефолтный показал: эти суды работали, вообще говоря, как суды не чужие народу. Поэтому в России это возможно.
— Но это были немножко такие сферические суды в вакууме. Потому что они судили, когда бизнесмен А занес, бизнесмен Б занес, теперь судим честно.
— Да, я понимаю. Для меня это важно как пример того, возможны ли в России нормально работающие суды. Да. Мы видели работающую модель, не демоверсию. Миллионы дел. Эти предпосылки возможны, но ими надо заниматься.
Еще одно препятствие, которое, мне думается, беспокоит многих наших соотечественников. То, что исследователи называют «железный закон олигархии». Дело в том, что новые элиты, когда забирают власть и обнаруживают власть вертикально организованной с хорошим контролем важнейших экономических активов, они говорят: «Слушайте, ребята, такие хорошие инструменты управления страной, мы потом сделаем демонополизацию, конкуренцию, разделение властей, а сейчас в условиях борьбы нам важно это сохранять в одном кулаке».
— Цель оправдывает средства.
— И пока мы не победим окончательно старый мир, пусть у нас будут монополии, авторитарная власть, непререкаемый президент и т. д. Это железный закон олигархии. Это не российская история. Приз очень большой в победе. Не как на выборах где-нибудь в Италии. Очень большой приз. Победитель получает все. И, получив все, он должен сказать: «Ой, это не мое, это матушки моей». И раздать это все народу. Очень тяжелое решение. На мой взгляд, в 90-х годах такого не произошло, несмотря на наличие политики, поддержки конкуренции, частной собственности и т. д. Очень многое, что не раздали.
— А в 2000-е разве раздали?
— Нет, не раздали. Понимаете, мне кажется, что моя задача в данном случае как профессора Московского университета объяснить: «Братцы мои дорогие, посмотрите, как ландшафт у вас устроен. Смотрите, за этим холмом вас ожидает эта проблема, а там высовывается драконья голова такого свойства». Причем нельзя сказать, что с этим ничего нельзя поделать. Нет. Но это все риски, барьеры, которые надо брать в расчет. Я бы даже сказал, что люди это берут в расчет реально — что переход к демократии гораздо дороже стоит, чем переход от демократии к автократии.
— Да, второе как-то проще получается.
— Абсолютно. Потому что, я вам скажу, для перехода в автократию что нужно. Например, если это электоральная автократия, нужно избрать вождя.
— Один раз.
— Один раз, совершенно верно. Все ребята, мы наконец добились, у власти тот самый, кто нам нужен, дальше он будет думать за нас, решать за нас и все делать.
— Однако же я напомню, что Трамп сейчас захотел остаться, но не дали.
— Да. Американцы имеют такую систему институтов. Мне было интересно как институциональному экономисту, выдержит ли она удар такой силы. Выдержала. Потому что, знаете, там же это все продолжение давнего спора, начавшегося в XVIII веке. Философы и просветители во Франции считали, что человек прекрасен и разум безграничен. И главный путь в будущее состоит в том, чтобы человека освобождать, тогда все будет хорошо. Американские отцы-основатели, масоны говорили: человек слаб, поэтому если мы его не ограничим институтами, он тут натворит. И там, и там провели свои эксперименты. Один называется Великая французская революция. И, в общем, думаю, что философы, просветители с того света ужаснулись тому, что получилось из освобожденного человека.
А у американских отцов-основателей 200 лет — полет нормальный: одна Гражданская война, ни одного государственного переворота, пара-тройка застреленных президентов, вот и все. Но система институтов работает. Я бы сказал, единственная трудность — это тиражирование. Америка не Россия, а уникальная страна как раз. Россия в гораздо большей степени похожа на своих европейских или азиатских соседей, чем Америка похожа на остальной мир. Америка — страна, возникшая, простите, лабораторным путем. Нет истории, нет традиций, не было феодализма. Съехались иммигранты из разных стран, понимая, что им надо договориться не в своей культурной рамке, а за пределами этой культурной рамки. И при этом каждый вооружен. И они вынуждены были договориться. Они могут любить друг друга, не любить друг друга. И, скорее всего, они не очень любят друг друга. Но они по-прежнему по-своему институционально вооружены, а иногда, в общем, и настоящее оружие присутствует где-то. И этот баланс держится.
Что можно сделать, если у вас нет сейчас спроса на те институты, которые должны дать экономический эффект, хорошее развитие страны? К этому спросу нужно построить мостики — промежуточные институты. Их 20 лет назад открыл наш соотечественник академик Полтерович, потом об этом подробно написал Дэни Родрик, описав, как может строиться промежуточный институт. Вы понимаете, что у вас есть такие-то культурные ограничения и такие-то политические. И вы понимаете, что это культурное ограничение и это политическое нельзя сохранять, потому что вы вперед не продвинетесь.
Революции всегда дают преобладающий отрицательный эффект. Это разрыв формальных институтов и неформальных. Законодательство отрывается от культуры, в один день законодательство становится другим, чрезвычайно новым прекрасным. Изменилось ли у вас что-нибудь в культуре? Ничего. В этот момент возникает зазор, в котором есть и хорошее, и плохое. С одной стороны, тут всегда расцветает практически искусство. А с другой стороны, тут всегда колоссально растет преступность, мошенничество и т. д. Потом начинается встречное движение законов и культуры.
— То есть реакция по сути.
— Нет, это еще не реакция. Реакция начнется тогда, когда они сойдутся. В общем, это попятное движение, конечно, законодательства. Когда они сближаются с культурой, происходит экономический рассвет. Это НЭП. Это начало 2000-х годов в России. А потом начинается за этим рассветом, если ничего не предпринимать, период реставрации. Вы думаете: «Где-то я уже это видел, подождите, это у нас какие годы вокруг, что это такое знакомое?» Это все и есть последствия революции. Если революция сильна, то можно пройти несколько волн в течение века. Таких, когда в разные стороны ходят законодательство и культура, между собой сталкиваясь, сходясь, расходясь. Это не я придумал. Это Дуглас Норт, может быть, один из самых ярких институциональных экономистов, Нобелевский лауреат. Он описал круги после Октябрьской революции. Потому что он считал, что это самые радикальные изменения в человеческой истории, которые зафиксированы какими-то историческими документами. После революции 1991–93 года мы тоже имеем такие волны. Но революция была мягенькая. И волны такие не очень жесткие.
— А вы считаете, волны не жесткие?
— По сравнению с тем, что было в 20-е, 30-е, 40-е годы, конечно, нет.
— А вот вы говорите про мостики, которые надо наводить. Какие здесь могут быть мостики? Промежуточные институты.
— То, как в принципе это можно строить, это у того же академика Полтеровича описано очень хорошо. Пример могу простой привести. Он считал, и, по-моему, совершенно правильно, что мы зря перешли к ипотечному кредитованию в стране, где нет у людей кредитной истории, где у банков нет никаких гарантий. А теперь если говорить о вещах серьезных, таких судьбоносных. Во-первых, то, чем мы мучаемся, имеет в теории название path-dependence problem, это эффект колеи. Когда страна попадает в резонанс: пытаясь изменить нормативные конструкции, натыкается на культурные ограничения. Пытаясь просвещением, например, образованием, сдвинуть культуру, она натыкается на власть, которая говорит: «Не шали, не надо этого делать, не расшатывай тут». Просвещение — это серьезная вещь. А в итоге: резонанс, создающий замок. Когда страна пытается выйти, подпрыгивает. Вот уже вышла в ведущие страны, вот уже спутник запустили, и съезжает обратно. И Россия тут отнюдь не единственная, могу привести Испанию, Аргентину как страны, которые попадали в такие ловушки или находятся в них.
Если говорить о решении этой проблемы с точки зрения современного понимания, то, я бы сказал, важно понять, где строить промежуточные институты для того, чтобы выход состоялся. Есть исследование, которое коснулось Англии, Франции и США. Оно показало, как они забрались на свои высоты. Три точки разделяют траекторию высокую и низкую, правильную и неправильную. Во-первых, нужно писать законы для себя, распространять на других, а не писать законы для других и для себя исключения. Большинство стран — элиты, конечно, пишут законы для других, для себя исключения. Во-вторых, надо строить организации не по персональному признаку. То есть компания, партия, общественное движение не должны быть ориентированы на конкретного персонального лидера. Они должны допускать замену лидера, и тогда они выживают, они накапливают человеческий капитал, опыт, репутацию и т. д. И в-третьих, инструменты насилия. Элиты всегда контролируют, но можно это делать двумя способами: поделив инструменты насилия между собой либо совместным контролированием инструментов насилия. Вот здесь и нужно строить промежуточные мосты.
— Все эти вещи, которые вы перечислили, так или иначе должна делать власть. Но здесь есть противоречие. У вас в книге описана проблема «голодных групп». Группы все время голодные. Они насыщаются, и, предположим, уже насытились. Даже дети их уже выросли и тоже насытились. Но если института сохранения собственности нет, отдавать власть им нельзя. А все эти действия, которые вы перечисляете, они рано или поздно приведут к сменяемости власти.
— Сейчас поясню, что имеется в виду под этими голодными и неголодными группами. Эта схема, которую можно иллюстрировать на нашей истории последних 30 лет, была придумана до того, как эта наша история случилась в 80-е годы.
— Мы не уникальные совсем.
— Да. Мансур Олсон, такой прекрасный институциональный экономист, показал следующую логику развития. Представим себе, что в некой стране Х правитель с окружающими — хищник, захватывающий активы. Такая неприятная ситуация. Они расхватали все активы. Расхватали потому, что они сильные, а кругом все слабые. Они забрали эти активы на себя. А дальше что? А дальше образуется развилка для обладателей активов, окружающих правителя. Первый вариант — воевать друг с другом. Но это будет страшно изнурительная война. Это же вам не хватать то, что плохо лежит.
— Война силовиков, кланов.
— Именно. Второй вариант — переменить установку. Идти не на расширение владения активами, а на повышение их продуктивности. Заняться использованием тех активов, которые вы захватили, раз уж слишком дорого и тяжело вышибать активы из себе подобных. И Олсон говорит, что второе решение будет принято скорее всего. Просто по логике второй вариант — это трудно и страшно, первый — рискованно, но вкусно. И мы видим несколько точек в российской истории, где была похожая развилка. Выбор в пользу второго варианта происходит при одном условии: если не появляются новые голодные группы. Если они появляются, снова начинается перераспределение. У нас в начале 2000-х годов встал такой вопрос. Дело ЮКОСа — это борьба вокруг этого вопроса. Мы будем что: активы эксплуатировать или перераспределять? Перераспределять. Я считаю, что и к началу 2008–2009 года вызрела примерно такая же развилка, но ударил мировой кризис. Во время кризиса как раз перераспределение и происходит. Но это не значит, что все время и всегда будут появляться голодные группы наверху, потому что у нас просто нет лифтов, которые все время голодных туда выносят. А значит, значительный набор элитных групп уже прошли этот самый круг, они уже приобрели.
— А как же, а дети? Дети, второе поколение.
— Детям-то, слава богу, достается от родителей. Они очень позаботились о детях и внуках, эти люди.
— А как это зафиксировать?
— В этом и вопрос. Именно в этом и есть мотив, почему эти группы могут пойти на закрепление прав собственности. Потому что передать детям вы можете только в том случае, если, во-первых, признано, что все ваше не украдено, или вы амнистированы. Более того, детям вы должны передать, наверное, не закопанные в саду золотые дукаты, а какие-то работающие системы или, по крайней мере, их финансовое воплощение в виде ценных бумаг.
— Права собственности.
— Права собственности, совершенно верно. Поэтому наличие следующих поколений — это, скорее, мотив сохранить. Более того, я осмелюсь такую парадоксальную вещь сказать: санкционный режим после 2014 года, скорее, обострил постановку этой проблемы. Потому что до этого можно было детям там что-то такое прикопать и оставить. И вдруг это стали с фонариками разыскивать, запрещать, отбирать золотые паспорта. В общем, пошел жуткий беспредел, потому что обычно элиты могут пользоваться зарубежными институтами. Это относится к любой стране: народ пользуется всегда институтами своей страны, а элиты: «Господи, какие проблемы. Учиться будет в Англии, техническую стандартизацию и регламентацию делаем в Германии». А тут раз, и получается, что нельзя пользоваться этими хорошими институтами, нужно тут что-то делать.
— Понимаете, в чем противоречие, часть страны, благодаря в том числе фильмам про дворец, уже давно все знает. Но мы не знаем, признает население право или у него возникнет желание взять и все отнять.
— Во-первых, мы проверяли это предположение еще в 2000-е годы, провели специальное исследование, которое опровергло такое расхожее предположение, что население к малому бизнесу относится хорошо, а к большому бизнесу относится плохо по результатам приватизации.
— Что, ко всему плохо относится?
— Оказалось, что к малому бизнесу тоже могут относиться плохо, если он в чем-то ущемил твои социальные права и возможности. И к большому бизнесу могут относиться хорошо, если он молодец, ребят, которые из армии вернулись, он доучивает, пенсионерами он занимается, благотворительность осуществляет, в развитие города вкладывается. На самом деле все определяется, по крайней мере по тому исследованию, которое мы проводили уже 15 лет тому назад, социальной позицией бизнеса. Да, ничего нового в этом нет для российского населения. Что такое хороший красный директор? Это который про людей думает. А уж как ему там это принадлежит: потому что он ЦК КПСС поставленный на эту позицию или потому что провели ваучерные аукционы, какая разница? Важно, как себя ведет. А потом, конечно, проросло новое поколение, которое не на сомнительной ваучерной приватизации сделало капиталы. Я имею в виду прорастание среднего бизнеса. Поэтому мне кажется, что это аргумент от лукавого. Власти ведь естественно так рассуждать, говорить: «Смотри, бизнес, ты же живешь только благодаря тому, что я тебя защищаю, я отойду в сторону, тебя же тут порвут, как Тузик грелку». Это не совсем так.
— Но я говорю не о бизнесе, построенном с нуля. А о том, что в обществе существует, какие там настроения. Во-первых, смотрите, расслоение ведь растет. И ощущение этой несправедливости, мне кажется, усиливается. Оно и создает риски. Возможно, бизнес или околовластный бизнес не делает достаточно для того, чтобы сделать граждан счастливыми.
— Да. Причем я думаю, что это было очевидно и 10 лет назад: в России неравенства больше, чем может допустить более или менее развитая страна при плохих лифтах. Тут ведь много зависит от чего? Справедливость очень по-разному может быть устроена в той или иной модели. Одно дело, вы допускаете, что разрывы большие, но зато у каждого есть шанс подняться с 0-го этажа на 24-й — последний, самый высокий. А другой вариант: не надо нам таких небоскребов, давайте в четыре этажа построим дом и чтобы у каждого квартиры были не на первом этаже, а начиная со второго. Так тоже можно. Это разное отношение к риску. Разный уровень избегания неопределенности. Разные установки на самореализацию или самовыживание. Но наша модель не отвечает ни тому ни другому требованию. Потому что лифт плохо ходит, а количество этажей большое.
Сейчас и власть, и противники власти занимаются, каждый по-своему, этой проблемой — проблемой справедливости. Если говорить о власти, что произошло? На мой взгляд, Россия пережила за XXI век два брака между властью и обществом, населением, народом. Причем я сразу оговорюсь, что я не имею в виду, что каждый поддерживал эту схему, это совершенно необязательно. Представитель власти женился, вышел замуж за кого-то другого, а не за вас, это не означает, что брак не состоялся. Это означает, что ваши интересы здесь не учтены. Сначала был брак в виде такого потребительского социального контракта. Была дефицитная экономика в СССР, а мы вам дадим общество потребления. Супермаркет на месте дыры, которая была в дефицитной экономике. Нормально, 10 лет это работало, потом сломалось. И, на мой взгляд, развод продлился года три. Потому что только в 2014 году власть вынесла предложение второго брака. Она сказала: «Хотите чего-то нематериального? У меня есть, но это не модернизация и не демократизация, а супердержава, нравится?» Значительная часть населения, большая часть населения сказала: «Нравится». Доходы пошли вниз, а поддержка власти пошла вверх. Крест такой образовался. И следующие четыре года жили так. При высоком доверии власти со стороны большой части населения и при падающих реально располагаемых доходах. Этот брак распался в 2018 году. Пенсионная реформа, но не только. Как-то уже перестали действовать Венесуэла и Ливия.
— Устали друг от друга.
— Да. Тем более что в этой семье с деньгами было не очень. И, кстати, к вопросу о несправедливости. Когда началось выползание из экономической ямы, то выяснилось, что выползают-то не все. У одних доходы растут, а у других продолжают падать. А это уже оказалось неприемлемо. Поэтому брак распался. И надо было что-то делать с этим, с этой историей. Власть предложила, подумав, третий брак. На мой взгляд, это с 2019 года началось, но в 2020-м было выражено ясно: «А справедливости не желаете? Давайте мы займемся справедливостью в каком смысле. Мы начнем сейчас налоги на богатых вводить». 5 млн рублей — это же много, у кого больше 5 млн рублей в год, 2% налога на доходы дополнительных. И на детей дадим, на орфанные заболевания. Не просто спрячем в закромах Минфина. Или вот еще — доходы на банковских депозитах обложим. А детям на каждого дадим по 5 тысяч рублей или даже по 10 тысяч рублей. Другая жизнь уже. Причем это я говорю об отдельных таких импульсах. А в целом это зашито в проект новой Конституции. Туча социальных обязательств в обмен на одно — на ослабление ротации власти. На то, что мы сами решим, будет меняться власть, не будет меняться власть, как-нибудь сами с этим разберемся.
— Вы думаете, сработает?
— Я бы сказал, пока да. Если иметь в виду, что бунтуют те, с кем этот брак не заключался. Видите ли, тут же опять вопрос: власть заключила этот брачный союз с К-Россией.
— То есть с 70%. С К-Россией.
— Да. В известном смысле за счет И-России. А оппоненты власти говорят: «У вас же там дворцы какие-то. Дворцы же, говорит народ, там же дворцы есть». Но должен заметить, в какой степени это аргумент для большой страны, пока не понятно.
— Мне кажется, противники власти пытаются сказать, что на самом деле они вам дают как бы подачки, а у них-то там больше.
— Да, совершенно верно. Но, понимаете, на мой взгляд, это постановка вопроса, понятная в политической борьбе, но непонятная в экономических перспективах. Что предлагается сделать? За счет чего удовлетворить, я бы сказал, законные, понятные требования К-России, не ясно. А я ведь говорил о том, что для власти в ее экономической части, для правительства И-Россия же тоже очень важна.
— Иначе с кого брать деньги на обеспечение К.
— И в этом смысле, с одной стороны, правительство, на мой взгляд, под лозунгами макроэкономической стабильности тормозит перераспределение, что чревато падающей эффективностью этой социальной политики. Потому что мало дают денег в семью, мало. Больше бы надо давать. А с другой стороны, правительство пытается предложить свой вариант такого друга семьи среднему классу. Потому что — что делает правительство? Поскольку это правительство Михаила Мишустина, который реализовал блистательную трансформацию властного органа в сервисную компанию в налоговом администрировании, оно делает то же самое на других направлениях. Мы всюду сделаем сервисные службы на месте властных и неповоротливых государственных органов. Мы сделаем государство клиентоориентированным. Это в принципе довольно заманчиво для высококачественного человеческого капитала. Потому что это создает такую комфортную среду.
— Это, кстати, и для тех и других, мне кажется, привлекательный ход.
— Наверное. Но видите ли, здесь два вопроса. Один, на мой взгляд, решаемый. Второй — не знаю, как может быть решен. Первый вопрос касается того, что сервисное государство само по себе — это отлично. Но финальный вопрос ведь не в том, как берут налоги, а в том, за что они платятся. И в этом случае вам надо менять налоговую систему. Почему я настаиваю на том, чтоб было партисипаторное бюджетирование, селективные налоги, когда вы голосуете налоговым рублем, куда его направить? Вы его отдаете, и вы же решаете. Вот президент предложил эти 2% дополнительно изъятых налогов направлять на орфанные заболевания. Я говорю: «Меня все устраивает». И то, что дополнительные 2%, и то, что целевым образом, и то, что на орфанные заболевания. Меня одно не устраивает — это должен решить налогоплательщик. Я должен решить, на орфанные заболевания, или на приюты для пожилых, или на новые медицинские технологии и т. д. Налогоплательщик должен в данном случае стать активным игроком. Потому что от рыночной демократии потребителя, которую мы освоили в 1990-е годы, через эту городскую жизнь мы идем к демократии налогоплательщика. Нужна демократия налогоплательщика. Но это я еще допускаю, что будет сделано. И тогда будет такой дополнительный, такой сервисный общественный договор у правительства с населением. Но проблема-то в том, что есть еще силовые органы, которые не подчиняются правительству. Они не вписываются в сервисный договор. Поэтому мы можем получить институциональную среду разорванную, где экономическая среда на таких принципах существует, а силовая — на совсем других. А в жизни того же бизнеса они сходятся рядом. Это не два мира, две страны, это одна жизнь конкретного предпринимателя. И на разрыв окажется ситуация.
— Плюс, эта И-Россия предъявляет тем не менее серьезный запрос именно на модернизацию, а не на социальный контракт.
— Сейчас власть в рамках третьего брака пытается сделать ставку на социальную политику, на авторитарный социальный режим, прописанный в Конституции. Но одновременно пытается проложить мостик сервисного государства в адрес тех, кто экономически важен для страны. Но стыкуется не очень хорошо эта конструкция.
— Вы не упомянули еще один фактор. Он называется ресурсное проклятие. У России всегда было ресурсное проклятие. И сейчас оно тоже сохраняется.
— Я не могу спорить с коллегами-экономистами, которые ввели этот термин. Но, видите ли, я бы сказал так, беда же не в золоте, а в златолюбии. Поэтому дело не в том, что у вас есть какие-то ресурсы. Дело в том, что вы выбираете тот ресурс, который вам позволяет не работать, но получать ренту.
— Это же так приятно.
— Да, безусловно. Причем нефть тут ни при чем. Потому что 500 лет у нас в стране существовало крепостное право. Это что такое? Это выжимание ренты из человеческого ресурса. Приличные люди, писатели, философы имели у себя в поместье некоторое количество душ, которые давали им ренту. После этого рентой, например, стала нефть. Но если нефть вдруг закончится, я вас уверяю, при таком ценностном подходе будет найден другой источник.
Это может быть реализовано очень по-разному. Это может быть малый бизнес, который договорится с администрациями вырезать себе кусочек рынка, и вот тут, например, больше не строить ресторанов. Не разрешают открыть второй ресторан? Значит, в этой работе сразу появляется рентный доход. Пока люди будут выбирать ренту, будет находиться объект ренты. Например, мы — самая протяженная страна мира, у нас территории огромные.
— То есть пролетные, проездные деньги, как у «Аэрофлота»?
— Пролетные, проездные, хранение чего-нибудь далеко от населенных пунктов и т. д.
Я бы сказал, в себе нужно повернуть этот важный переключатель. Проблема ценностного выбора в данном случае важнее, чем наличие большого ресурса. Потому что в Норвегии тоже есть нефтяные ресурсы. У Канады, Австралии, США — у больших стран, таких как мы, как правило, существуют избыточные ресурсы, которые интересны для других стран. Но либо вы делаете ставку на пенсионную жизнь с младых ногтей, либо вы хотите проявить свой ум и талант, чего, кстати говоря, в России много.
— Но, вы знаете, я в своем поколении, так поделюсь, слышу очень много голосов за пенсионный вариант. Меня это огорчает. Люди говорят об этом, даже в их 40, самом продуктивном возрасте для того, чтобы реализовать себя, — ты еще молод, но уже много знаешь.
— Блестящий вопрос мне задал один из наших студентов экономического факультета. Он сказал: «А скажите, спецшколы всякого рода — это попытка развить человеческий капитал или попытка снять ренту с человеческого капитала?»
— Гениальный вопрос.
— Я давно не получал таких блестящих вопросов. Это действительно интересно. Дело в том, что, к сожалению, геномика... В связи с доверием я погружался в данные, которые кажутся далекими от экономической науки. И, кстати, по доверию-то данные в этом смысле хороши: от 5 до 20% — только наследственная часть доверия, остальное — приобретаемое. В политических, религиозных взглядах 25% — наследственная часть. А интеллект на 80% наследуется и только на 20% является ненаследственным. Поэтому я начинаю думать, что мы, возможно, не поднимаем интеллект, а отбираем тех, кто обладает этими свойствами.
— Их же легко учить, с ними легко обращаться.
— Но на самом деле я думаю, что мы все-таки делаем и то и другое. Особенно в МГУ, где магнит притягивает людей из разных городов и весей с очень разными стартовыми не талантами, а подготовкой. И если желание позволяет им поступить, то, мне кажется, там уже интеллект развивается. Но ренту можно брать и с человеческого капитала. С высококачественного, а не только с крепостного труда.
— А с какой стати это изменится? Что должно произойти, чтобы это изменилось?
— В конечном счете рентоориентированное поведение приводит к отставанию в развитии. Поэтому вы, может быть, в своем поколении не проиграете. Но посмотрите на детей пра-пра-пра-правнуков английских землевладельцев. 300 лет тому назад земля была абсолютно главным активом. Сейчас земля — актив? Да. Но она составляет 3% от активов страны. Есть лендлорды, их наследники, которые получают ренты? Есть. Вот там, на задворочках. И, ей-богу, люди, которые делают сейчас какие-то прорывы в цифровой индустрии, вряд ли с большим уважением отнесутся к вашим внукам, которые от домашней нефтяной скважины получают доход.
— Российская экономика вся платит очень большую дань в виде санкций. Что делать с этим? Вы вообще верите, что при нашей жизни санкции отменят?
— Лиза, я должен спросить тут же, сколько вы собираетесь жить. Потому что экономисты все-таки должны считать. При вашей жизни отменят. Да и я, думаю, имею некоторый шанс дождаться. Потому что разные санкции имеют разный срок жизни. Европейские довольно отменяемые, я бы сказал. Американские чрезвычайно трудно отменяемые даже при перемене ситуации.
— Смотрите, вы лично имеете непосредственное отношение к производству думающих людей. Вы производите думающих людей. Но думающие люди — это непременно фронда. Потому что они думают, у них образуются разные идеи. А с фрондой по нынешним временам надо бороться. Как вы для себя решаете эту дилемму?
— Если говорить о вечной проблеме участия студенчества в борьбе за лучшее будущее, то, вы знаете, я разделяю позицию первого выбранного ректора Императорского Московского университета, князя Трубецкого Сергея Николаевича, философа, который 18 дней управлял Московским университетом. Тяжелое время пришлось на его ректорство. И сначала он не выпускал студентов на Манежную площадь. Он говорил, что улица не должна приходить в университет, университет не должен идти на улицу. Ваши знания нужны стране, а не ваши революционные убеждения. А потом он умер в приемной министра полиции, добиваясь освобождения студентов, которые все-таки прорвались на митинги и баррикады в Москве. Я думаю, что это неизбежная позиция, не только лично моя, но людей в университетах. Университеты как автономии прошли через века. Они ставили себя вне политики и говорили: сохраните себя для будущего, но если с вами — с нашими детьми — что-то произойдет, то мы будем защищать своих детей.
— Вы лично что будете делать, если придет приказ, просьба?
— Отчислять студентов за политические убеждения точно не буду. Гораздо сложнее, когда они совершат, скажем, очевидно противоправное действие. Это сложный вопрос. Но могу сказать, что если человек на 15 суток за участие в незаконной акции судом арестован, то он, конечно, получит выговор за отсутствие на занятиях и продолжит учиться. Потому что с точки зрения продолжения обучения это примерно, как если он подхватил болезнь какую-то.
— Без справки.
— Да. Поскольку справки о болезни нет, а отсутствие есть, то выговор будет.
— Вспоминаю комиссию, «компот» она называлась. Этот орган еще существует в университете?
— «Компот», конечно, это комиссия по отчислению с характерным названием. И там студенты теперь сидят, тоже участвуют в этих заседаниях. А потом студенты приходят, потому что после решения об отчислении у них есть право на апелляцию у декана, и это тяжелая для меня вещь. Каждый отчисляемый имеет право ко мне прийти. И обычно разговор идет о двух вещах. Попытка найти формальные основания, за которые можно зацепиться и не отчислять. А если мы не находим, то попытка найти траекторию жизнь после или восстановление. Причем иногда, поговорив с человеком, я говорю: «Знаете, это не ваш путь, попробуйте бизнесом заняться или еще чем-то, или пойти на другой факультет». А иногда отчисляю и говорю: «Мы будем очень вас ждать, приходите обратно, попробуйте поступить еще раз».